
Евтушенко Евгений Александрович
(1933 — 2017)Бывают нечастые счастливцы, которые полностью совпадают с эпохой, в которую им приходится жить, и тогда они становятся ее любимцами. Одним из таких любимцев был Евгений Евтушенко, родившийся на далекой сибирской станции Зима Иркутской области в семье поэта-любителя и актрисы, впоследствии получившей звание заслуженного деятеля культуры РСФСР. С малых лет родители прививали ему любовь к книгам: читали вслух, пересказывали занятные факты из истории, обучая малыша чтению. После переезда семьи в Москву в 1944 году Евгений нехотя учился в нескольких московских школах и с большой охотой посещал поэтическую студию при районном Доме пионеров. История обучения в школах закончилась скандалом и исключением, что, кстати, повторится потом и в Литературном институте им. А.М. Горького, где он будет учиться с 1952 года по
В период с 1950 по 1980 е годы — время поэтического бума — на арену огромной популярности вышло поколение «шестидесятников» — Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Р. Рождественский, Е. Евтушенко.
В годы своего расцвета они заразили своим воодушевлением всю страну, поразив свежестью, независимостью, неофициальностью творчества. Выступления этих авторов собирали огромные стадионы, и поэзия периода «оттепели» стала явлением и в литературной, и в поэтической жизни страны. Произведения самого Евтушенко отличает широкая гамма настроений, жанровое разнообразие, простота и доступность стихов. Он издает несколько сборников, которые приобрели большую популярность: «Третий снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Нежность» (1962), «Взмах руки» (1962).
А впереди опять подарки эпохи: с 1986 по 1991 год поэт был секретарем правления Союза писателей СССР, с декабря 1991 года — секретарем правления Содружества писательских союзов, с 1989 года — сопредседатель писательской ассоциации «Апрель», а в 1989 году с огромным отрывом, набрав в 19 раз больше голосов, чем ближайший кандидат, был избран народным депутатом СССР. В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в городе Талса, штат ,Оклахома Евтушенко уехал с семьей преподавать в США, где с тех пор жил постоянно, иногда приезжая в Россию. Умер он также в Америки, но согласно завещанию похоронен в России на знаменитом кладбище писательского Переделкина, рядом с могилой Бориса Пастернака. Иногда, правда, коллеги по литературному цеху бывали недовольны: «Это такая огромная фабрика по воспроизводству самого себя...», пытался оставить свое слово Иосиф Бродский, но кто б его слушал? Последнее слово всегда за эпохой. Ее баловнем Евтушенко так и остался навсегда.


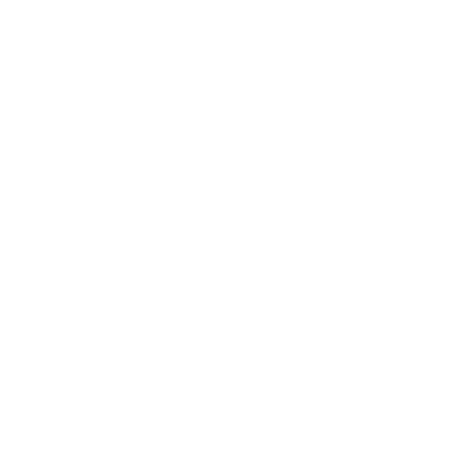 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



